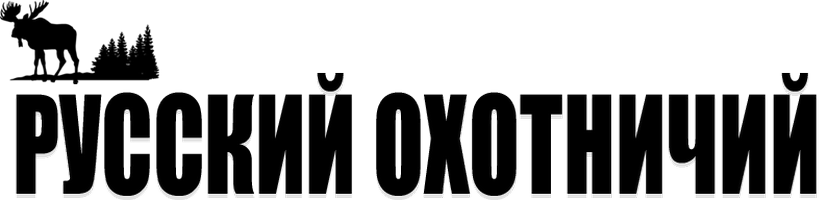Если вы не получили электронную книгу или письмо с подтверждением заказа, напишите на huntportal@huntportal.ru
Вмёрзнуть в лёд. Ледостав на Колыме

Предзимье на Севере — как бы не самое опасное время. Вроде ещё и не совсем зима, то и дело погода обманет оттепелью — но с каждым погожим днём морозы крепчают, сокращается световой день. А главное — ты твёрдо осознаёшь, что лучше если и станет, то совсем ненадолго. Впереди зима, вращение Земли вокруг Солнца никто ещё не обманул.
А ещё — начинают замерзать реки. Процесс это длительный и сложный. Ледостав происходит в течение нескольких дней, причём раньше всего замерзают озёра, потом тихие, спокойные долинные реки, а уж затем — быстрые реки горных долин.
О том, что замёрзли озёра, вы узнаёте по уткам. Огромное количество нырковых уток — турпанов, чернетей, синьги — строит свои гнёзда уже после половодья, то есть очень поздно по птичьим северным меркам. И они не отлетают на юг в едином порыве, как благородные утки, а тянут с началом отлёта до самого предела. Этот предел как раз и наступает при замерзании озёр, на которых держатся семьи нырковых уток. Тогда они все внезапно появляются на, казалось бы, уже вымершей реке и улетают в течение двух-трёх дней.
Реки замерзают как минимум через неделю после того, как температура воздуха упадёт до минус двадцати градусов. А крупные быстрые реки даже в сорокоградусные морозы могут не замёрзнуть и до середины декабря. В принципе, здесь работает одно правило: чем больше масса воды, тем медленнее она замерзает.
Замерзать река начинает с заливов, которые на Северо-Востоке называются култуками. Река ещё течёт, когда лёд на этих култуках становится таким прочным, что выдерживает тяжесть человека. Затем во всяких затишках, за мысами, корягами и просто на тихих плёсах образуются забереги — примёрзшие к берегу куски льда толщиной в оконное стекло и такой же прозрачности. Далее ситуация вновь стабилизируется, всё так же давит мороз, всё так же светит бледное зимнее солнце, всё так же земля наливается зимним холодом… И наконец, по реке начинает плыть шуга.
А ещё — начинают замерзать реки. Процесс это длительный и сложный. Ледостав происходит в течение нескольких дней, причём раньше всего замерзают озёра, потом тихие, спокойные долинные реки, а уж затем — быстрые реки горных долин.
О том, что замёрзли озёра, вы узнаёте по уткам. Огромное количество нырковых уток — турпанов, чернетей, синьги — строит свои гнёзда уже после половодья, то есть очень поздно по птичьим северным меркам. И они не отлетают на юг в едином порыве, как благородные утки, а тянут с началом отлёта до самого предела. Этот предел как раз и наступает при замерзании озёр, на которых держатся семьи нырковых уток. Тогда они все внезапно появляются на, казалось бы, уже вымершей реке и улетают в течение двух-трёх дней.
Реки замерзают как минимум через неделю после того, как температура воздуха упадёт до минус двадцати градусов. А крупные быстрые реки даже в сорокоградусные морозы могут не замёрзнуть и до середины декабря. В принципе, здесь работает одно правило: чем больше масса воды, тем медленнее она замерзает.
Замерзать река начинает с заливов, которые на Северо-Востоке называются култуками. Река ещё течёт, когда лёд на этих култуках становится таким прочным, что выдерживает тяжесть человека. Затем во всяких затишках, за мысами, корягами и просто на тихих плёсах образуются забереги — примёрзшие к берегу куски льда толщиной в оконное стекло и такой же прозрачности. Далее ситуация вновь стабилизируется, всё так же давит мороз, всё так же светит бледное зимнее солнце, всё так же земля наливается зимним холодом… И наконец, по реке начинает плыть шуга.
Шуга — это лёд, который образуется прямо на поверхности воды, кристаллизуясь иголочками, и плывёт вниз по течению, сбиваясь в небольшие, а позже и в крупные островки. На поворотах и перекатах они цепляются друг за друга и, смерзаясь воедино, постепенно образуют ледяные мосты поперёк реки — так называемые перехваты. Затем эти перехваты смерзаются между собой, и река встаёт.
Есть шуга, всплывающая со дна реки, — это донный лёд, который образуется на перекатах, где морозный воздух охлаждает дно реки под перекатом через тонкую плёнку воды до отрицательной температуры, в то время как сама бегущая по перекату вода имеет температуру плюс четыре градуса. Тогда лёд начинает вырастать и на дне, такими дендровидными образованиями, чем-то похожими на кораллы. Потом они отрываются, всплывают вверх (как известно, твёрдая агрегатная фаза воды легче жидкой), эти кристаллы несёт течением, течение сбивает их в комки, эти комки начинают формироваться во вполне приличные льдины, а льдины — в ледяные поля.
Вот в такое самое неподходящее время мой отец со своим напарником Олегом Васильевичем Егоровым добыл лося в среднем течении Колымы. Днём и так было холодно, вечером мороз даванул сильнее. Однако, как пишут писатели в книгах, «ничто не предвещало»: Колыма в этом месте была шириной километра полтора с мощным и равномерным течением, и никаких признаков грядущего скорого ледостава, кроме уже довольно давно образовавшихся заберегов, не было.
Вот в такое самое неподходящее время мой отец со своим напарником Олегом Васильевичем Егоровым добыл лося в среднем течении Колымы. Днём и так было холодно, вечером мороз даванул сильнее. Однако, как пишут писатели в книгах, «ничто не предвещало»: Колыма в этом месте была шириной километра полтора с мощным и равномерным течением, и никаких признаков грядущего скорого ледостава, кроме уже довольно давно образовавшихся заберегов, не было.
Арсений Васильевич Кречмар (30 августа 1934, Ленинград — 12 декабря 2023, п. Ольшаники, Ленинградская область) — советский и российский зоолог, орнитолог, эколог, фотограф-анималист. Кандидат биологических наук. Один из пионеров в области создания автоматических фотокамер. Заслуженный эколог Российской Федерации. Полевой работник с шестидесятилетним стажем, в 1950-е годы начинал работать на п-ове Таймыр с картами, имевшими реальные «белые пятна».
Олег Васильевич Егоров. (1921–1970) — доктор биологических наук, зоолог, крупнейший специалист по наземным позвоночным Северо-Востока Азии. Партизан, фронтовик, (пошёл добровольцем на Финскую войну, с перерывами воевал до Победы), путешественник, коллекционер холодного оружия, в качестве хобби изготавливал охотничьи ножи.
Охотники загрузили лодку мясом, завели мотор и пошли на стационар Жирково, где, по плану научных исследований, должны были провести позднюю осень. До избушки от места стрела было километров восемь — десять. И едва люди преодолели первую пару километров, по Колыме пошёл лёд.
Сперва это были небольшие льдинки, которые вообще не представляли опасности для дюралевой «казанки»: они или обламывались о борта, или просто отбивались в сторону. Небольшой десятисильный мотор «Москва» уверенно тащил людей с грузом вверх по течению.
В какой-то момент небольшие льдинки, спешившие вниз, к Северному Ледовитому океану, сменились уже вполне приличными по размеру полями, метров по двадцать — тридцать, а то и пятьдесят. Но ширина реки, о чём я уже писал, позволяла маневрировать между ними.
Затем в какой-то момент река снова очистилась, и отец с компаньоном облегчённо вздохнули. Решили, что прошла порция льда, сформировавшаяся на одном из перекатов реки, а там и они успеют доскочить до дома.
Сперва это были небольшие льдинки, которые вообще не представляли опасности для дюралевой «казанки»: они или обламывались о борта, или просто отбивались в сторону. Небольшой десятисильный мотор «Москва» уверенно тащил людей с грузом вверх по течению.
В какой-то момент небольшие льдинки, спешившие вниз, к Северному Ледовитому океану, сменились уже вполне приличными по размеру полями, метров по двадцать — тридцать, а то и пятьдесят. Но ширина реки, о чём я уже писал, позволяла маневрировать между ними.
Затем в какой-то момент река снова очистилась, и отец с компаньоном облегчённо вздохнули. Решили, что прошла порция льда, сформировавшаяся на одном из перекатов реки, а там и они успеют доскочить до дома.
Облегчённо вздохнули они, конечно, зря. Потому что впереди обнаружилось ледяное поле, перегораживавшее Колыму от берега до берега. И это поле, как вы догадываетесь, довольно-таки шустро шло вниз по течению. Людям в лодке было понятно, что поле это сформировалось буквально вот только что и потому значительной толщины набрать не могло: просто времени не хватило. Поэтому они выбрали, как им казалось, самый правильный путь — пробиваться сквозь него, благо прочный дюралевый корпус это позволял. Определили узкое место, где пробиваться надо было по минимуму — ну, метров тридцать там, — и врубились туда на полном ходу.
В первое время казалось, что всё получается: метров десять они прошли по этому полю, как по чистой воде, — толщина его была максимум два сантиметра. А потом на моторе «Москва» сорвало шпонку. Видимо, какой-то мощный обломок льда попал под винт. И поле начало лодку сжимать. Потому что, хоть толщина льда и была всего два сантиметра — но справа от лодки этого двухсантиметрового льда было метров пятьсот. И слева — семьсот. И это получались уже не килограммы, а тонны сжатия на квадратный сантиметр. И толщина льда такая, что он ещё и не держит. А до каждого берега чуть ли не по километру, и оказаться в такой воде, да среди ломкого, не держащего твоего веса льда, обламывающегося под руками, — верная гибель. Кстати, именно в такой ситуации чаще всего тонут при пересечении рек такие крепкие и сильные звери, как лоси. Что уж говорить о человеке?
Борта «казанки» затрещали, вылетело несколько заклёпок, потекла вода. Отец взял топор, начал судорожно обрубать лёд вокруг лодки, пытаясь снизить нагрузку льда, Олег Егоров менял шпонку на винте. Пару раз казалось, что сжатие прекратилось, но потом поле льда тем или иным бортом вписывалось в берег, снова сжималось, и лодку продолжало корёжить. В какой-то момент Егоров бросил возиться с мотором, взялся за весло и принялся выталкивать «казанку» обратно, по тому же проходу, по которому они прошли. Отец продолжал рубить лёд — с боков, а теперь ещё и с кормы. Однако люди они оба были весьма крепкие и после минут двадцати отчаянной борьбы вышли на чистую воду.
Тут уже просто на вёслах подчалили к тому берегу, на котором находился стационар, разгрузили моторку и вытащили её на берег. На «Москву», кстати, не забыли-таки поставить новую шпонку, а затем установили мотор в вертикальном положении — чтобы остатки воды из «рубашки охлаждения» вытекли вниз и не разорвали при перемерзании двигатель. Словом, всё рачительно заскладировали и пошли по берегу реки домой, уже в темноте, подсвечивая дорогу фонариками-«жучками».
Пишу я эти строки в 2024 году, и странно вспомнить, что в шестидесятые годы XX века на Севере самым мощным был мотор «Москва» («Вихри» на практике появились только в начале семидесятых), а двух круглых батареек в китайском фонарике с алюминиевым корпусом хватало на полтора часа света максимум. Поэтому одним из самых распространённых фонарей «на все случаи жизни» был динамо-фонарь, «жужжалка», работавший от мускульного привода сжатием ладони. Лежали они в рюкзаках практически у всех представителей путешествующей братии.
Добрались биологи до стационара вполне благополучно. Наутро же пустились в обратный путь — вынести мясо, сколько можно, на плечах, укрыть остальное под лодкой, а уж потом уже забрать всё остальное на нарточке, запряжённой собакой. Вышли на берег — а льда-то на Колыме и нету! Пронесло куда-то. Посовещались. Пришли к выводу, что где-то выше, на каком-то повороте льдины сплотились в затор, он смёрзся, и не пускает шугу вниз. Спустили лодку на воду, поставили мотор, загрузили — и были на базе с добычей уже через полчаса.
Борта «казанки» затрещали, вылетело несколько заклёпок, потекла вода. Отец взял топор, начал судорожно обрубать лёд вокруг лодки, пытаясь снизить нагрузку льда, Олег Егоров менял шпонку на винте. Пару раз казалось, что сжатие прекратилось, но потом поле льда тем или иным бортом вписывалось в берег, снова сжималось, и лодку продолжало корёжить. В какой-то момент Егоров бросил возиться с мотором, взялся за весло и принялся выталкивать «казанку» обратно, по тому же проходу, по которому они прошли. Отец продолжал рубить лёд — с боков, а теперь ещё и с кормы. Однако люди они оба были весьма крепкие и после минут двадцати отчаянной борьбы вышли на чистую воду.
Тут уже просто на вёслах подчалили к тому берегу, на котором находился стационар, разгрузили моторку и вытащили её на берег. На «Москву», кстати, не забыли-таки поставить новую шпонку, а затем установили мотор в вертикальном положении — чтобы остатки воды из «рубашки охлаждения» вытекли вниз и не разорвали при перемерзании двигатель. Словом, всё рачительно заскладировали и пошли по берегу реки домой, уже в темноте, подсвечивая дорогу фонариками-«жучками».
Пишу я эти строки в 2024 году, и странно вспомнить, что в шестидесятые годы XX века на Севере самым мощным был мотор «Москва» («Вихри» на практике появились только в начале семидесятых), а двух круглых батареек в китайском фонарике с алюминиевым корпусом хватало на полтора часа света максимум. Поэтому одним из самых распространённых фонарей «на все случаи жизни» был динамо-фонарь, «жужжалка», работавший от мускульного привода сжатием ладони. Лежали они в рюкзаках практически у всех представителей путешествующей братии.
Добрались биологи до стационара вполне благополучно. Наутро же пустились в обратный путь — вынести мясо, сколько можно, на плечах, укрыть остальное под лодкой, а уж потом уже забрать всё остальное на нарточке, запряжённой собакой. Вышли на берег — а льда-то на Колыме и нету! Пронесло куда-то. Посовещались. Пришли к выводу, что где-то выше, на каком-то повороте льдины сплотились в затор, он смёрзся, и не пускает шугу вниз. Спустили лодку на воду, поставили мотор, загрузили — и были на базе с добычей уже через полчаса.
Больше рассказов об игре со смертью — в новой книге Михаила Кречмара «Книга выживших»
2025-03-27 23:03
Наедине с гибелью